История храма
Храм святых бессребреников Космы и Дамиана
г. Королёв
г. Королёв
История Храма святых бессребреников Космы и Дамиана
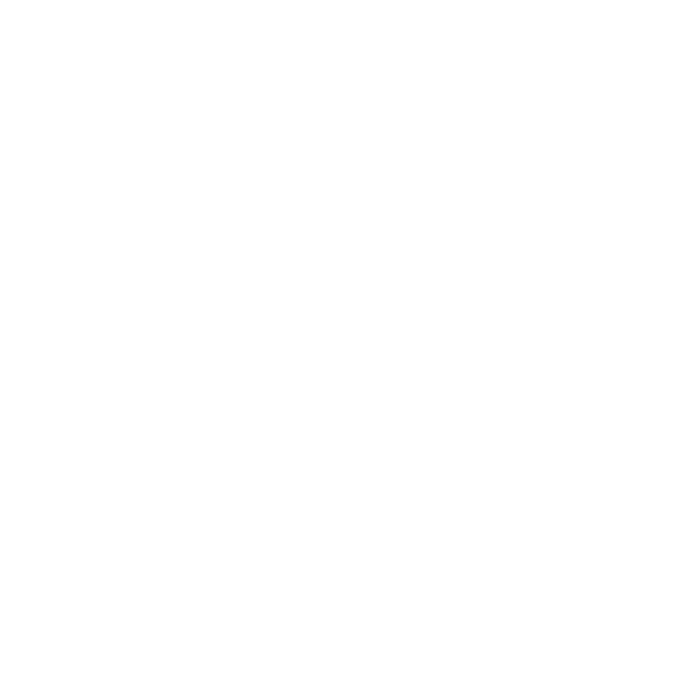
Жителям посёлка Болшево и его окрестностей хорошо известна церковь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, но мало кто из прихожан знает историю этого древнего храма.
Первое упоминание о Болшевской Космо-Дамианской церкви относится к 1585 г.: «…на реке Клязьме церковь Козма и Дамьян древян, Клёцки». В ту пору это был деревянный клетцкий рубленый храм с открытыми без тесовых обшивок стенами и главками, покрытыми лемехом. Точная дата его постройки неизвестна, но очевидно, что во времена правления царя Иоанна Грозного (1530–1584 гг.) в болшевской Космо-Дамианской церкви уже проводились богослужения.
Устроена эта церковь была неподалёку от нынешнего Космо-Дамианского храма. Достоверные сведения о месте её расположения до нас не дошли, но есть предположение, что стояла церковь недалеко от берега Клязьмы, там, где теперь находится пустырь между прибрежными дачами и домами Станционной улицы.
Первое упоминание о Болшевской Космо-Дамианской церкви относится к 1585 г.: «…на реке Клязьме церковь Козма и Дамьян древян, Клёцки». В ту пору это был деревянный клетцкий рубленый храм с открытыми без тесовых обшивок стенами и главками, покрытыми лемехом. Точная дата его постройки неизвестна, но очевидно, что во времена правления царя Иоанна Грозного (1530–1584 гг.) в болшевской Космо-Дамианской церкви уже проводились богослужения.
Устроена эта церковь была неподалёку от нынешнего Космо-Дамианского храма. Достоверные сведения о месте её расположения до нас не дошли, но есть предположение, что стояла церковь недалеко от берега Клязьмы, там, где теперь находится пустырь между прибрежными дачами и домами Станционной улицы.
С незапамятных времён здесь под деревьями парка дачи Шпис лежал большой камень прямоугольной формы, более тонны весом — вполне возможно, что этот камень являлся частью надгробия, которое раньше находилось в ограде первой Космодамианской церкви.
В следующем упоминании о Болшевской Космо-Дамианской церкви, датированном 1620 годом, сказано: «…деревня, что было село Большево, на реке Клязьме, а в ней была церковь Козьма и Дамиан…». Из этого упоминания видно, что Болшево на тот момент утратило статус села и стало деревней, следовательно, храма в этом населённом пункте не стало.
С глубокой древности известны имена владельцев села Болшево и приписанных к нему деревень: в 1573 г. это был дьяк Василий Щелкалов, а до него селом владели Никита Щелепин и Вторый Фёдоров. Затем по государевой грамоте 1620 г. Болшево передали боярину Феодору Ивановичу Шереметеву. В 1651 г. село с окрестными деревнями было отписано Шереметевым — внуку, князю Михаилу Одоевскому, а от него в 1661 г. оно перешло к его сыну князю Юрию Михайловичу Одоевскому.
В следующем упоминании о Болшевской Космо-Дамианской церкви, датированном 1620 годом, сказано: «…деревня, что было село Большево, на реке Клязьме, а в ней была церковь Козьма и Дамиан…». Из этого упоминания видно, что Болшево на тот момент утратило статус села и стало деревней, следовательно, храма в этом населённом пункте не стало.
С глубокой древности известны имена владельцев села Болшево и приписанных к нему деревень: в 1573 г. это был дьяк Василий Щелкалов, а до него селом владели Никита Щелепин и Вторый Фёдоров. Затем по государевой грамоте 1620 г. Болшево передали боярину Феодору Ивановичу Шереметеву. В 1651 г. село с окрестными деревнями было отписано Шереметевым — внуку, князю Михаилу Одоевскому, а от него в 1661 г. оно перешло к его сыну князю Юрию Михайловичу Одоевскому.
При князе Юрии Михайловиче Одоевском Болшево вновь возрождается, что видно из следующего документа: «1680. Июля 28. Договорная и описная поповых, причетниковых и приходских людей, дворов, пашни и сенных покосов:…Козьмы и Дамиана церковь бохова стана в селе Большеве, Городищи тож, на реке Клязьме… Прежняя церковь от разорения запустела, а в 1680 году, по благословенной грамоте Святейшего Патриарха, боярин князь Юрий Михайлович Одоевский строит церковь в селе Большеве на новом месте во имя же Козьмы и Дамиана, от старого кладбища с четверть версты. В приходе её: село Большево, в нем двор боярский и 16 дворов крестьянских; деревня Баскаки, в ней 7 дворов крестьянских, деревня Комарово, деревня Власово (Новинки). Новопоставленный поп тоя церкви — Сильвестр…». Известно, что после отца Сильвестра в церкви святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана служил его сын Иван Сильвестров.
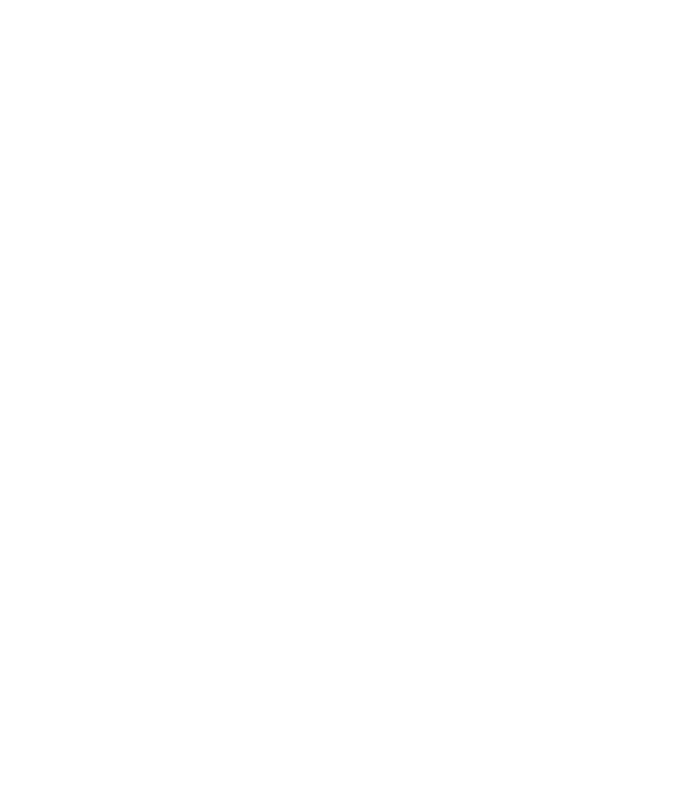
Новый деревянный Космо-Дамианский храм строился два года, начиная от выдачи благословенной грамоты в 1680 г. до его освящения в 1682 г. Построен он был на месте горпо (около моста, по которому в настоящее время проходит автотрасса на Новые Горки). До 30-х годов прошлого века там сохранялся каменный столп с крестом — памятник бывшей здесь ранее Космодамианской церкви.
Старое кладбище, упоминаемое в приведённом документе, было обнаружено в 1926 г., когда проводилась реконструкция дороги, ведущей от фабрики Ф. Рабенека к станции Болшево. Находилось оно на месте нынешней Станционной улицы, около храма Преображения Господня. В 1680 г. захоронений на нем уже не проводили, а к концу XIX в. о старом кладбище вообще забыли, иначе в 1894 г. через него не стали бы осуществлять прокладку первой дороги к станции Болшево.
Сколько лет прошло после разрушения первой Космо-Дамианской церкви до времени построения второй деревянной церкви неизвестно. В записях середины XVII в. Болшево называют то селом, то деревней, то сельцом. Известно лишь, что перед постройкой второй Космо-Дамианской церкви в Болшево проводилось обследование церковных земель и болшевский староста «Ивашка Клементьев» рассказал землемерам, что раньше здесь уже стояла церковь Космы и Дамиана, а другие крестьяне подтвердили его слова, но где была церковная земля, они не знали. Как видно, в середине XVII в. сведения о первой Космодамианской церкви ещё были живы в памяти местных жителей
Старое кладбище, упоминаемое в приведённом документе, было обнаружено в 1926 г., когда проводилась реконструкция дороги, ведущей от фабрики Ф. Рабенека к станции Болшево. Находилось оно на месте нынешней Станционной улицы, около храма Преображения Господня. В 1680 г. захоронений на нем уже не проводили, а к концу XIX в. о старом кладбище вообще забыли, иначе в 1894 г. через него не стали бы осуществлять прокладку первой дороги к станции Болшево.
Сколько лет прошло после разрушения первой Космо-Дамианской церкви до времени построения второй деревянной церкви неизвестно. В записях середины XVII в. Болшево называют то селом, то деревней, то сельцом. Известно лишь, что перед постройкой второй Космо-Дамианской церкви в Болшево проводилось обследование церковных земель и болшевский староста «Ивашка Клементьев» рассказал землемерам, что раньше здесь уже стояла церковь Космы и Дамиана, а другие крестьяне подтвердили его слова, но где была церковная земля, они не знали. Как видно, в середине XVII в. сведения о первой Космодамианской церкви ещё были живы в памяти местных жителей
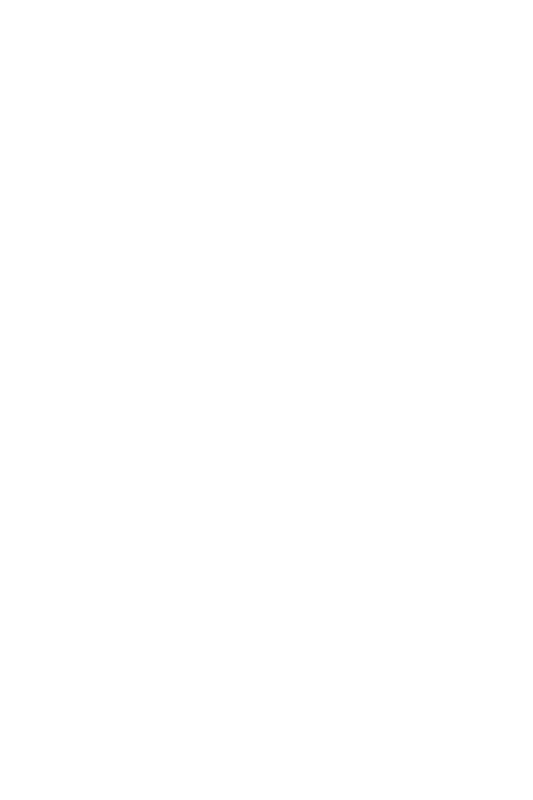
День празднования главного престола второго Космо-Дамианского храма был чётко установлен на основании старинных церковных ведомостей из архива Московской духовной Консистории. Полное имя Святых было определено церковной ведомостью 1740 г., где сказано: «…вотчина князя Юрия Михайловича Одоевского села Большева, церковь свв. чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии празднуется Русской Православной Церковью 1 (14) ноября».
В 1767 г. Московской губернской межевой канцелярией в Болшево вновь проводилось обследование церковных земель. В ведомости канцелярии от 25 июня 1767 г. о принадлежащих в то время Космо-Дамианскому храму земельных угодьях сказано: «… В той обмежеванной к церкви земле от всех смежных владельцев оною окружною межою по низшей мере состоит пашенной земли тридцать десятин, сенных покосов три десятины, под поселением, огородами, и гуменниками церковнослужителей одна десятина девятьсот шестьдесят пять сажен. По дорогам, что ездят из села Болшева в село Максимково тысяча двести пятьдесят четыре сажени. Всего тридцать шесть десятин, восемьсот сорок три сажени за извлечением дорог. Болот и заливов тридцать четыре десятины девятьсот шестьдесят пять сажен. Да в силу землемерной методы 5 части 7 пункта церковнослужителям для рубки леса в вотчинничение лесные угодия села».
В 1767 г. Московской губернской межевой канцелярией в Болшево вновь проводилось обследование церковных земель. В ведомости канцелярии от 25 июня 1767 г. о принадлежащих в то время Космо-Дамианскому храму земельных угодьях сказано: «… В той обмежеванной к церкви земле от всех смежных владельцев оною окружною межою по низшей мере состоит пашенной земли тридцать десятин, сенных покосов три десятины, под поселением, огородами, и гуменниками церковнослужителей одна десятина девятьсот шестьдесят пять сажен. По дорогам, что ездят из села Болшева в село Максимково тысяча двести пятьдесят четыре сажени. Всего тридцать шесть десятин, восемьсот сорок три сажени за извлечением дорог. Болот и заливов тридцать четыре десятины девятьсот шестьдесят пять сажен. Да в силу землемерной методы 5 части 7 пункта церковнослужителям для рубки леса в вотчинничение лесные угодия села».
В 1776 г., спустя почти столетие после строительства второго деревянного Космо-Дамианского храма, владелец села Болшево отставной полковник — князь Пётр Иванович Одоевский, правнук Юрия Михайловича, пожертвовал это село вместе с Космо-Дамианским храмом в распоряжение Попечительного Комитета на содержание учреждённого им «Убежища для бедных». Отличавшийся своей склонностью к благотворительности князь передал на содержание этого «Убежища» 1180 душ. Впоследствии П.И. Одоевский в память о своей покойной дочери основал также «Дарьинский приют» в Москве. В болшевской церкви святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана и сейчас справа при входе в трапезную можно увидеть мемориальную доску дочери князя — Дарьи Петровны Одоевской, в замужестве графини Кенсона.
Никаких документальных свидетельств о деятельности самого Космо-Дамианского храма за почти столетний период со времени его постройки нет, но вполне очевидно, что за это время он сильно обветшал. Поэтому в 1786 г., благодаря попечительству князя Петра Ивановича Одоевского, вместо него началось возведение нового кирпичного Космо-Дамианского храма, который и сохранился до настоящего времени. Архитектура его выдержана в стиле классицизма, основанного на законах античного искусства Рима и Греции, однако в объёме колокольни явственно просматриваются черты стиля русского барокко. Первоначально кирпичный Космо-Дамианский храм был летним (холодным).
Дата постройки кирпичного храма взята из церковных метрик. В журнале Консистории от 3 августа 1796 г. было обнаружено «прошение благочинного села Болшева Козмо-Дамианской церкви священника Алексея Петрова о дозволении имеющуюся в оном селе деревянную колокольню для обжига кирпича для зделания ограды сломать». Из этой записи видно, что к 3 августа 1796 г. на церковном месте в селе Болшево от второго деревянного храма осталась только деревянная колокольня. Следовательно, новый кирпичный храм безсребреников Космы и Дамиана к тому времени уже был возведён и освящён. Потому и заботился священник Алексей Петров о возведении вокруг него церковной ограды.
В 1800 г. князем Петром Ивановичем Одоевским возводится почти рядом с Космо-Дамианским храмом церковь Преображения Господня. Появление второго храма в селе Болшево разъясняется в клировой ведомости 1821 г., где сказано, что каменная церковь Космы и Дамиана была летней (холодной), а храм Преображения Господня — зимним (тёплым).
В 1813 г. владелец села Костино и Богородского И.А. Киреевский подал прошение Августину, епископу Дмитровскому, приписать к церкви Космы и Дамиана «за близостью расстояния» также церковь Рождества Богородицы. О болшевских храмах в прошении говорится: «…в Болшове (церковь) во имя Козмы и Дамиана, другая особо Преображения Господня, обе каменные, в твёрдости, утварью церковною достаточны и в коих все исправно». Прошение И.А. Кириевского было удовлетворено.
Упоминание о церкви во имя Рождества Божией Матери встречается и в прошении болшевского священника Матфея Козмина к Преосвященному Афанасию, епископу Дмитровскому, в 1822 г. В нем отец Матфей просил уволить его от должности по старости, а на своё место рекомендовал «родственника своего Московской Георгиевской, что на Лубянке, церкви диакона Иоанна Иоаннова». В поступивших по этому прошению справках в Консисторию упоминалось, что «с 1814 года февраля 24 дня к Космодемьянской церкви села Болшево приписана Рождественская церковь, что в селе Костине».
Прошение священника Матфея Козмина Афанасий, епископ Дмитровский, удовлетворил, назначив 16 октября 1822 г. диакона Иоанна Иоаннова (Иверонова) «во священники к церкви в Болшове». До своей смерти в 1866 г. отец Иоанн прослужил в болшевском храме, о чем и поныне свидетельствует закладная мраморная доска на северном фасаде трапезной Космо-Дамианской церкви.
В 1849 г. к болшевской Космо-Дамианской церкви была приписана также церковь Покрова Богородицы «в сельце Любимовка».
В описи церковного и ризничего имущества, проведённой в 1856–1860 гг., Космо-Дамианская церковь все ещё помечена, как холодная. Здесь же приводится и внешний вид храма: «Глава церкви обита белой жестью… В медное позлащённое яблоко вставлен железный, по мордаку позлащённый крест…»
Никаких документальных свидетельств о деятельности самого Космо-Дамианского храма за почти столетний период со времени его постройки нет, но вполне очевидно, что за это время он сильно обветшал. Поэтому в 1786 г., благодаря попечительству князя Петра Ивановича Одоевского, вместо него началось возведение нового кирпичного Космо-Дамианского храма, который и сохранился до настоящего времени. Архитектура его выдержана в стиле классицизма, основанного на законах античного искусства Рима и Греции, однако в объёме колокольни явственно просматриваются черты стиля русского барокко. Первоначально кирпичный Космо-Дамианский храм был летним (холодным).
Дата постройки кирпичного храма взята из церковных метрик. В журнале Консистории от 3 августа 1796 г. было обнаружено «прошение благочинного села Болшева Козмо-Дамианской церкви священника Алексея Петрова о дозволении имеющуюся в оном селе деревянную колокольню для обжига кирпича для зделания ограды сломать». Из этой записи видно, что к 3 августа 1796 г. на церковном месте в селе Болшево от второго деревянного храма осталась только деревянная колокольня. Следовательно, новый кирпичный храм безсребреников Космы и Дамиана к тому времени уже был возведён и освящён. Потому и заботился священник Алексей Петров о возведении вокруг него церковной ограды.
В 1800 г. князем Петром Ивановичем Одоевским возводится почти рядом с Космо-Дамианским храмом церковь Преображения Господня. Появление второго храма в селе Болшево разъясняется в клировой ведомости 1821 г., где сказано, что каменная церковь Космы и Дамиана была летней (холодной), а храм Преображения Господня — зимним (тёплым).
В 1813 г. владелец села Костино и Богородского И.А. Киреевский подал прошение Августину, епископу Дмитровскому, приписать к церкви Космы и Дамиана «за близостью расстояния» также церковь Рождества Богородицы. О болшевских храмах в прошении говорится: «…в Болшове (церковь) во имя Козмы и Дамиана, другая особо Преображения Господня, обе каменные, в твёрдости, утварью церковною достаточны и в коих все исправно». Прошение И.А. Кириевского было удовлетворено.
Упоминание о церкви во имя Рождества Божией Матери встречается и в прошении болшевского священника Матфея Козмина к Преосвященному Афанасию, епископу Дмитровскому, в 1822 г. В нем отец Матфей просил уволить его от должности по старости, а на своё место рекомендовал «родственника своего Московской Георгиевской, что на Лубянке, церкви диакона Иоанна Иоаннова». В поступивших по этому прошению справках в Консисторию упоминалось, что «с 1814 года февраля 24 дня к Космодемьянской церкви села Болшево приписана Рождественская церковь, что в селе Костине».
Прошение священника Матфея Козмина Афанасий, епископ Дмитровский, удовлетворил, назначив 16 октября 1822 г. диакона Иоанна Иоаннова (Иверонова) «во священники к церкви в Болшове». До своей смерти в 1866 г. отец Иоанн прослужил в болшевском храме, о чем и поныне свидетельствует закладная мраморная доска на северном фасаде трапезной Космо-Дамианской церкви.
В 1849 г. к болшевской Космо-Дамианской церкви была приписана также церковь Покрова Богородицы «в сельце Любимовка».
В описи церковного и ризничего имущества, проведённой в 1856–1860 гг., Космо-Дамианская церковь все ещё помечена, как холодная. Здесь же приводится и внешний вид храма: «Глава церкви обита белой жестью… В медное позлащённое яблоко вставлен железный, по мордаку позлащённый крест…»
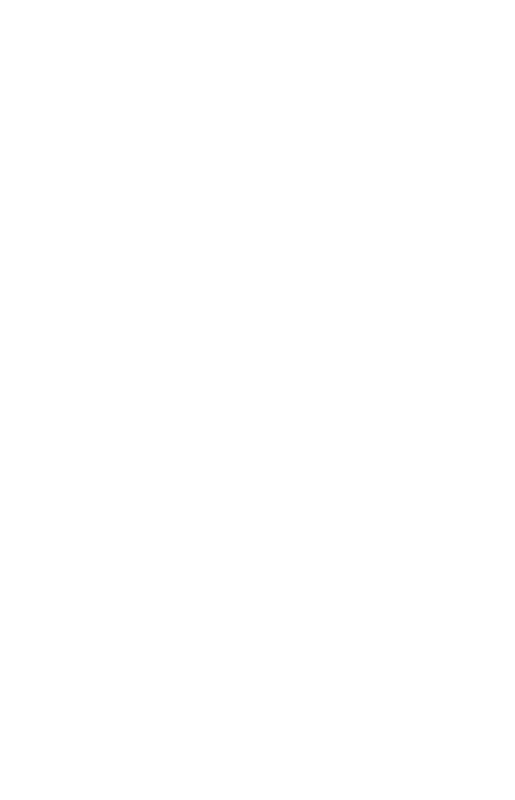
В Московской церковной ведомости от 1880 г. за № 40 приводится интересное сообщение: «В 1878 г. старостой стал Алексеев С. (отец знаменитого русского режиссёра К.С. Станиславского), полностью отремонтировавший Космодамианский храм». Так как церковь Покрова Богородицы в сельце Любимовке с 1849 г. была приписана к болшевской Космо-Дамианской церкви, а сама Любимовка принадлежала Алексеевым, то и Константин Алексеев (будущий К.С. Станиславский) часто бывал в болшевском храме. В это время священником в нем служил Михаил Петрович Знаменский.
В начале 1887 г. в церковной метрике отмечалось, что на колокольне храма имеется пять колоколов, в ней же говорилось о наличии в Космо-Дамианской церкви мраморных досок с надписями о погребении князя Петра Ивановича Одоевского и дочери его Дарьи Петровны, в замужестве графини Кенсона. И поныне напротив мемориальной доски дочери можно увидеть мемориальную доску создателя Космо-Дамианского храма — князя Петра, находящуюся слева при входе в храмовую трапезную.
До настоящего времени сохранилось и свидетельство о захоронении тела Петра Ивановича Одоевского в болшевском Космо-Дамианском храме, где сказано: «В приходе Никицкаго сорока; церкви Космы и Дамиана, что в Шубине, живущий в собственном своём доме полковник Князь Пётр Иванович Одоевский сего 1826-го года апреля 10-го дня волею Божией умре, коего тело сего года Апреля 13-го дня в означенной Космодамианской церкви отпето и по указу Московской Духовной консистории положено Московской округи в церкви Космы и Дамиана, что в селе Болшево. В чем свидетельствуем: (подписи)».
В начале 1887 г. в церковной метрике отмечалось, что на колокольне храма имеется пять колоколов, в ней же говорилось о наличии в Космо-Дамианской церкви мраморных досок с надписями о погребении князя Петра Ивановича Одоевского и дочери его Дарьи Петровны, в замужестве графини Кенсона. И поныне напротив мемориальной доски дочери можно увидеть мемориальную доску создателя Космо-Дамианского храма — князя Петра, находящуюся слева при входе в храмовую трапезную.
До настоящего времени сохранилось и свидетельство о захоронении тела Петра Ивановича Одоевского в болшевском Космо-Дамианском храме, где сказано: «В приходе Никицкаго сорока; церкви Космы и Дамиана, что в Шубине, живущий в собственном своём доме полковник Князь Пётр Иванович Одоевский сего 1826-го года апреля 10-го дня волею Божией умре, коего тело сего года Апреля 13-го дня в означенной Космодамианской церкви отпето и по указу Московской Духовной консистории положено Московской округи в церкви Космы и Дамиана, что в селе Болшево. В чем свидетельствуем: (подписи)».
В 1898 г. с разрешения Консистории в храме святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана по проекту архитектора Б.Н. Шнауберта развернулось строительство южного придела во имя иконы Казанской иконы Божией Матери.
Московские Церковные Ведомости в 1900 г. писали в № 29: «9 июля…было совершено освящение вновь сооружённого придела при местной церкви в честь иконы Казанской Божией Матери…благодаря энергии и старанию настоятеля храма о. Николая Георгиевского и церковного старосты С.П. Киричко на сумму, собранную прихожанами. Фабриканты-иностранцы, живущие в окрестности, фабрики которых находятся в приходе этой церкви, принесли на сооружение этого придела значительные суммы».
Здесь впервые упоминается о священнике Николае Георгиевском, сменившем в Космо-Дамианской церкви отца Михаила Петровича Знаменского, переведённого в августе 1890 г. в Московскую Троицкую церковь. Отец Николай родился в 1865 году в селе Коломенское Нагатинской волости Московского уезда Московской губернии в семье священника Сергия Георгиевского. По окончании в 1886 году Московской духовной семинарии он был рукоположён во священника и служил в храмах Московской епархии. В церкви святых Космы и Дамиана с. Болшево отец Николай прослужил чуть более 40 лет. Он много сделал для родного храма: благодаря его усилиям был не только сооружён придел в честь Казанской иконы Божией Матери, но и при его непосредственном участии на колокольне Космо-Дамианского храма был установлен большой колокол, могучий голос которого был слышен за десять вёрст вокруг. Отец Николай долгое время, включая и время гонений от безбожных властей, был благочинным храмов Мытищинского района.
Московские Церковные Ведомости в 1900 г. писали в № 29: «9 июля…было совершено освящение вновь сооружённого придела при местной церкви в честь иконы Казанской Божией Матери…благодаря энергии и старанию настоятеля храма о. Николая Георгиевского и церковного старосты С.П. Киричко на сумму, собранную прихожанами. Фабриканты-иностранцы, живущие в окрестности, фабрики которых находятся в приходе этой церкви, принесли на сооружение этого придела значительные суммы».
Здесь впервые упоминается о священнике Николае Георгиевском, сменившем в Космо-Дамианской церкви отца Михаила Петровича Знаменского, переведённого в августе 1890 г. в Московскую Троицкую церковь. Отец Николай родился в 1865 году в селе Коломенское Нагатинской волости Московского уезда Московской губернии в семье священника Сергия Георгиевского. По окончании в 1886 году Московской духовной семинарии он был рукоположён во священника и служил в храмах Московской епархии. В церкви святых Космы и Дамиана с. Болшево отец Николай прослужил чуть более 40 лет. Он много сделал для родного храма: благодаря его усилиям был не только сооружён придел в честь Казанской иконы Божией Матери, но и при его непосредственном участии на колокольне Космо-Дамианского храма был установлен большой колокол, могучий голос которого был слышен за десять вёрст вокруг. Отец Николай долгое время, включая и время гонений от безбожных властей, был благочинным храмов Мытищинского района.
В конце августа 1929 г., после обедни, в церковь явились несколько человек, возглавляемых двумя местными печальной славы «общественными деятелями» – П. Дудко и И. Бардышевым. Они отобрали у священника отца Николая Георгиевского и старосты ключи и заперли церковь, объявив, что здание со всем имуществом конфискуется. Решили громить церковь вручную. Помогал отряд добровольцев.
Приходили как на работу, по-деловому, с инструментами. Первое, что привлекло их внимание, было паникадило — главная люстра храма, ажурное сооружение из металла и хрусталя, по виду воздушно-лёгкое, но в действительности массой в несколько пудов, подвешенное на толстой железной цепи под куполом.
Приходили как на работу, по-деловому, с инструментами. Первое, что привлекло их внимание, было паникадило — главная люстра храма, ажурное сооружение из металла и хрусталя, по виду воздушно-лёгкое, но в действительности массой в несколько пудов, подвешенное на толстой железной цепи под куполом.
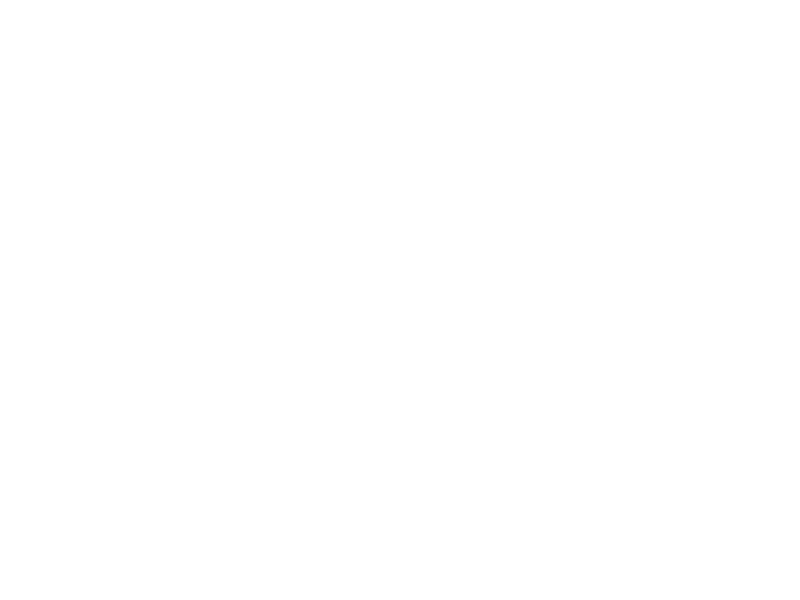
Приставив лестницы, забрались наверх и перепилили цепь. Люстра рухнула на каменный пол и разбилась вдребезги. Затем принялись за иконостас, подрубили опоры и повалили его, превратив в груду обломков. Под ними было погребено главное Распятие работы В.Д. Поленова. Взялись за колокола, их спускали по канату на землю, но самый большой колокол снять не могли — слишком тяжёл и огромен, в окно колокольни не проходил. Его решили разбить на месте.
Пришла зима, но церковь продолжали громить. Приходили все желающие и выискивали, что ещё можно разбить или разломать. Разодраны были в клочья дорогие покрывала и облачения духовенства — ризы из золотой и серебряной парчи. Дети на Первомайке играли золотыми кисточками, парчовыми лоскутами и обломками окладов икон. Надругательство над церковью приводило в ужас прихожан. Разодрав на куски плащаницу, одну часть её отнесли к дому крепко верующего старика и, открыв дверь, швырнули её ему под ноги, сопровождая сей акт отвратительными ругательствами.
Может возникнуть вопрос: почему верующие не защитили свою церковь? Пришли бы десятка два-три мужиков и выбросили громил за ворота! Нет, силой тут действовать было нельзя, это прихожане точно знали. В особенности боялись за своего священника, отца Николая, которого очень любили. Ему не миновать бы ареста, а может быть, и расстрела. Примеры уже были. Так что верующим оставалась лишь роль просителей. Да и на эту роль не так уж много охотников находилось.
В те дни группу ходоков от болшевского прихода возглавила Лидия Мартыновна Евстафьева. Эта маленькая, тихая женщина (ей было лет 55) принялась энергично и безбоязненно выполнять поручения верующих. Без устали она обивала пороги разных ведомств, включая самые высокие.
Кто-то из деятелей культуры и искусства не побоялся присоединить свою просьбу, указав, что в болшевской церкви имеются работы знаменитого художника В.Д. Поленова. Местные власти, даже получив из Москвы соответствующее предписание, оставляли его под сукном. После повторных настойчивых просьб Москва поручила разобраться с делом болшевской церкви начальнику милиции Мытищинского района В.П. Якунину.
Пришла зима, но церковь продолжали громить. Приходили все желающие и выискивали, что ещё можно разбить или разломать. Разодраны были в клочья дорогие покрывала и облачения духовенства — ризы из золотой и серебряной парчи. Дети на Первомайке играли золотыми кисточками, парчовыми лоскутами и обломками окладов икон. Надругательство над церковью приводило в ужас прихожан. Разодрав на куски плащаницу, одну часть её отнесли к дому крепко верующего старика и, открыв дверь, швырнули её ему под ноги, сопровождая сей акт отвратительными ругательствами.
Может возникнуть вопрос: почему верующие не защитили свою церковь? Пришли бы десятка два-три мужиков и выбросили громил за ворота! Нет, силой тут действовать было нельзя, это прихожане точно знали. В особенности боялись за своего священника, отца Николая, которого очень любили. Ему не миновать бы ареста, а может быть, и расстрела. Примеры уже были. Так что верующим оставалась лишь роль просителей. Да и на эту роль не так уж много охотников находилось.
В те дни группу ходоков от болшевского прихода возглавила Лидия Мартыновна Евстафьева. Эта маленькая, тихая женщина (ей было лет 55) принялась энергично и безбоязненно выполнять поручения верующих. Без устали она обивала пороги разных ведомств, включая самые высокие.
Кто-то из деятелей культуры и искусства не побоялся присоединить свою просьбу, указав, что в болшевской церкви имеются работы знаменитого художника В.Д. Поленова. Местные власти, даже получив из Москвы соответствующее предписание, оставляли его под сукном. После повторных настойчивых просьб Москва поручила разобраться с делом болшевской церкви начальнику милиции Мытищинского района В.П. Якунину.
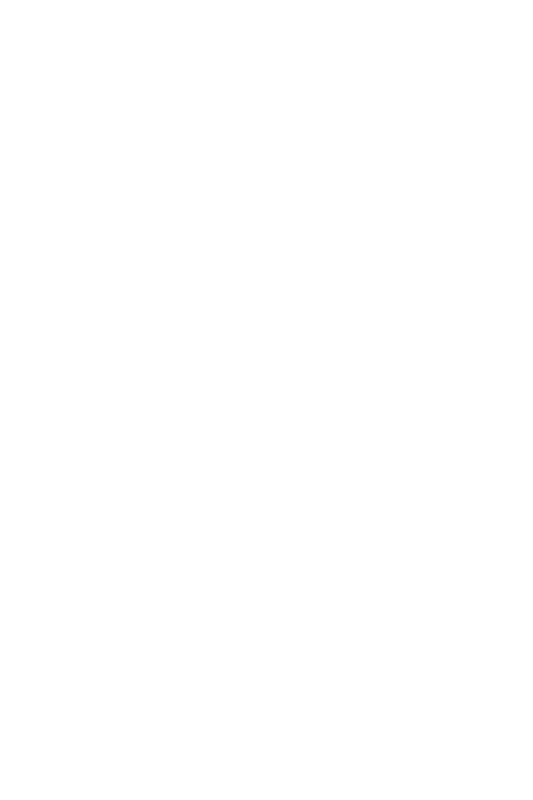
Была уже весна, апрель, начиналась Страстная неделя. К вечеру погромщики явились «на работу». Искали, что ещё осталось целым в церкви. Обнаружили засыпанный осколками стекла, обломками металла и дерева большой деревянный крест. Перевернули его, а там — неповреждённое изображение Распятого Господа. Распилили Распятие на куски и снесли вниз, в котельную, но поленились растапливать печь: «ладно, завтра сожжём». Наутро В. Якунин отобрал у них ключи.
От И. Бардышева и П. Дудко потребовали возвратить все вынесенные из церкви предметы. Известно, что у них отобрали два дорогих креста на массивных цепочках и ключ. Что стало с другими драгоценными предметами — установить невозможно.
15 апреля 1930 г. храм вновь был открыт. Под руководством Г. Левицкого и И. Шуранова начали реставрацию. Казалось, должны были опуститься руки, но они решили сделать невозможное — восстановить церковь к Пасхе. И сделали! Все работали, не щадя себя, трое суток продолжалась работа, не прекращаясь ни днём, ни ночью. Когда принесли из котельной куски поленовского Распятия, специалисты сказали, что его можно восстановить.
От И. Бардышева и П. Дудко потребовали возвратить все вынесенные из церкви предметы. Известно, что у них отобрали два дорогих креста на массивных цепочках и ключ. Что стало с другими драгоценными предметами — установить невозможно.
15 апреля 1930 г. храм вновь был открыт. Под руководством Г. Левицкого и И. Шуранова начали реставрацию. Казалось, должны были опуститься руки, но они решили сделать невозможное — восстановить церковь к Пасхе. И сделали! Все работали, не щадя себя, трое суток продолжалась работа, не прекращаясь ни днём, ни ночью. Когда принесли из котельной куски поленовского Распятия, специалисты сказали, что его можно восстановить.
Церковь Космы и Дамиана осталась за верующими, а Бардышев, Дудко и иже с ними вели агитацию за исключение Якунина из партии. Ему пришлось пережить немало неприятных дней.
В то смутное время церковным старостой была Л.М. Евстафьева. Ей и в дальнейшем приходилось отбивать атаки на церковь. В частности, защищаться от несуразного проекта, который предлагал местный Совет: устроить в одном из помещений церкви водокачку, а водонапорный бак водрузить на колокольню. Лидия Мартыновна отправилась к М.И. Калинину, и случилось маленькое чудо: без предварительной записи она прошла прямо в его кабинет. Он встретил её приветливо и наложил на заявлении резолюцию – «Оставить болшевскую церковь Косьмы и Дамиана в покое».
В отместку представители власти стали собирать сведения об отце Николае для его ареста. Во время праздника Пасхи в 1931 г. отец Николай, поздравляя верующих, сказал, что, слава Богу, дождались; наверное, больше так не придётся встречать, потому что коммунисты жмут. Одна из дежурных свидетелей показала, что во время проповеди священник Георгиевский сказал, что «Иисус Христос крестился и всем нам это завещал, а сейчас люди это не стали признавать, не стали крестить людей».
Прихожане болшевской церкви все-таки не смогли уберечь своего батюшку от тюрьмы. Больного протоиерея Николая Георгиевского и сослужившего ему протодиакона Андрея Рубина арестовали одновременно 14 июля 1931 г. 26 июля отец Николай был допрошен. На все вопросы следователя категорично ответил: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю и показания давать отказываюсь».
Протоиерей Николай Георгиевский скончался 10 сентября 1931 г. в пересыльной тюрьме в Алма-Ате. Протодиакон Андрей Рубин был также сослан в лагерь заключения, где впоследствии погиб.
В то смутное время церковным старостой была Л.М. Евстафьева. Ей и в дальнейшем приходилось отбивать атаки на церковь. В частности, защищаться от несуразного проекта, который предлагал местный Совет: устроить в одном из помещений церкви водокачку, а водонапорный бак водрузить на колокольню. Лидия Мартыновна отправилась к М.И. Калинину, и случилось маленькое чудо: без предварительной записи она прошла прямо в его кабинет. Он встретил её приветливо и наложил на заявлении резолюцию – «Оставить болшевскую церковь Косьмы и Дамиана в покое».
В отместку представители власти стали собирать сведения об отце Николае для его ареста. Во время праздника Пасхи в 1931 г. отец Николай, поздравляя верующих, сказал, что, слава Богу, дождались; наверное, больше так не придётся встречать, потому что коммунисты жмут. Одна из дежурных свидетелей показала, что во время проповеди священник Георгиевский сказал, что «Иисус Христос крестился и всем нам это завещал, а сейчас люди это не стали признавать, не стали крестить людей».
Прихожане болшевской церкви все-таки не смогли уберечь своего батюшку от тюрьмы. Больного протоиерея Николая Георгиевского и сослужившего ему протодиакона Андрея Рубина арестовали одновременно 14 июля 1931 г. 26 июля отец Николай был допрошен. На все вопросы следователя категорично ответил: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю и показания давать отказываюсь».
Протоиерей Николай Георгиевский скончался 10 сентября 1931 г. в пересыльной тюрьме в Алма-Ате. Протодиакон Андрей Рубин был также сослан в лагерь заключения, где впоследствии погиб.
В 1922 г. в храм святых Космы и Дамиана был переведён священник Александр Русинов. В 1930 г. протоиерей Александр Русинов был арестован в первый раз. Его обвиняли в антисоветской агитации и укрытии церковных ценностей. Батюшку осудили и выслали на три года в исправительно-трудовой лагерь г. Котласа. Какого исправления желала новая власть от всех священнослужителей и православных христиан? — Отречения от Бога, отречения от Креста. Отец Александр не знал, как жить без Бога, не хотел без Него жить и не умел.
С 1932 по 1938 гг. в селе Болшево жили диакон Сергий Никольский вместе с матушкой Марией. Диакон Сергий служил в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана вместе с отцом Александром Русиновым. Они не только вместе служили, но и жили в одном доме — в церковной сторожке, делили её на две семьи. Оба подвергались арестам, оба пережили предупреждение от властей, оба вернулись по воле Божией в Космо-Дамианский храм, чтобы завершить свой жизненный путь достойно.
С 1932 по 1938 гг. в селе Болшево жили диакон Сергий Никольский вместе с матушкой Марией. Диакон Сергий служил в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана вместе с отцом Александром Русиновым. Они не только вместе служили, но и жили в одном доме — в церковной сторожке, делили её на две семьи. Оба подвергались арестам, оба пережили предупреждение от властей, оба вернулись по воле Божией в Космо-Дамианский храм, чтобы завершить свой жизненный путь достойно.
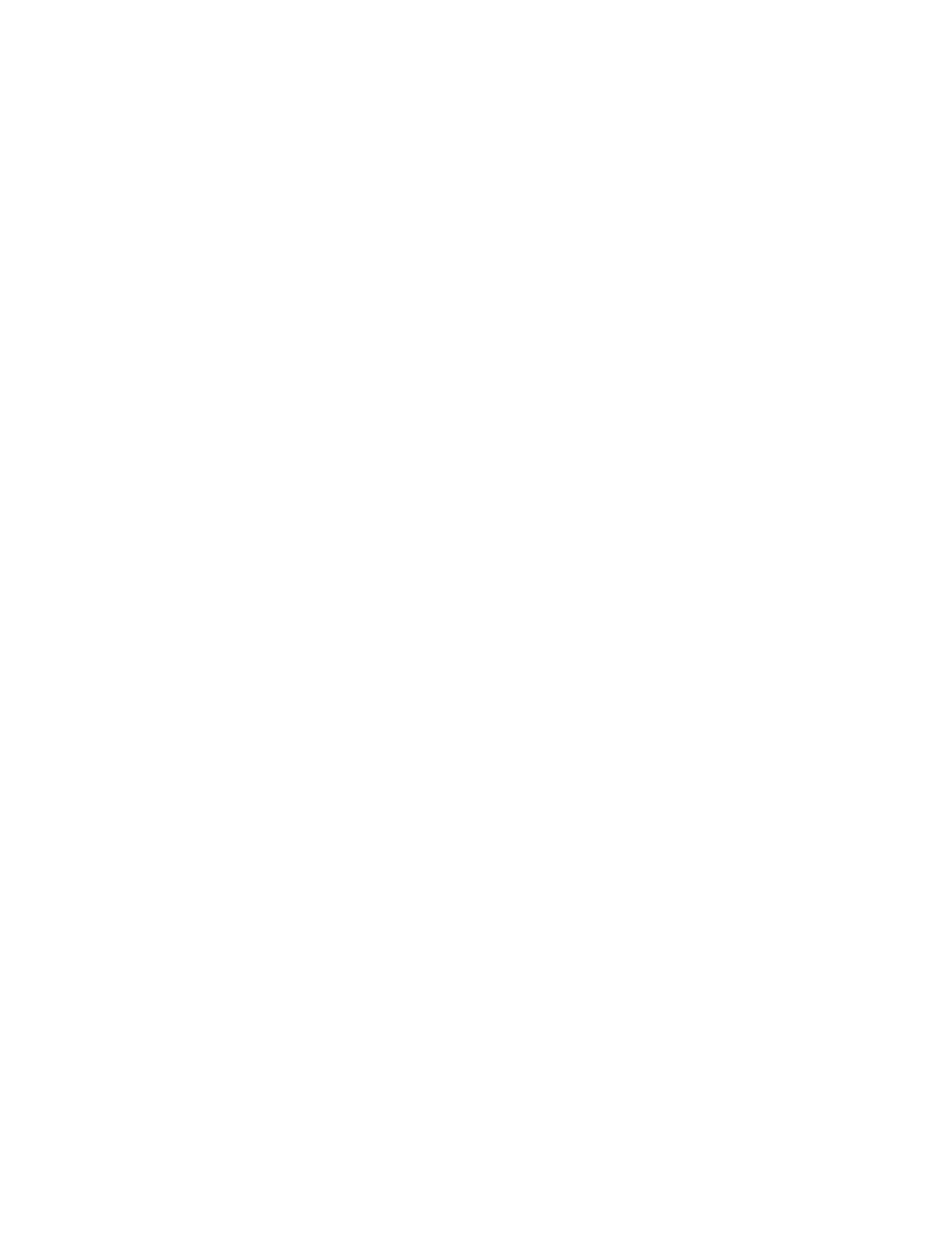
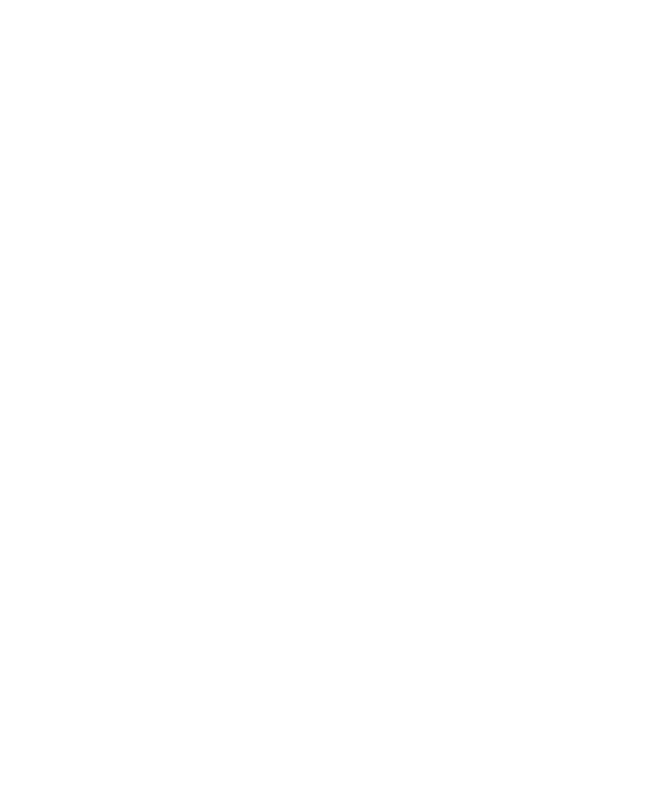
В праздник Крещения Господня 19 января 1938 г. отец Александр и диакон Сергий были арестованы во второй раз, чтобы уже никогда не вернуться на свободу. Их доставили в застенки ОГПУ, где начались бесконечные, изматывающие душу и тело допросы. Свидетелями по делу отца Александра и диакона Сергия проходили Рыков и Тихонова. Священнослужителей обвиняли в контрреволюционной деятельности, антисоветской агитации и подрыве устоев новой власти. Признаний не только требовали, их выбивали, издевались. Все это осталось между строк протоколов.
31 января 1938 г. на Бутовском полигоне протоиерей Александр Владимирович Русинов и диакон Сергий Никольский были расстреляны. В тот же день вместе с ними погибли ещё 312 человек, 7 из которых — священнослужители, и захоронены в общей безвестной могиле.
18 декабря 1958 г. диакон Сергий Никольский был реабилитирован Президиумом Московского областного суда.
11 апреля 2006 г. постановлением Священного Синода протоиерей Александр Русинов причислен к лику святых Новомучеников Российских для общецерковного почитания. Память его празднуется 31 января.
31 января 1938 г. на Бутовском полигоне протоиерей Александр Владимирович Русинов и диакон Сергий Никольский были расстреляны. В тот же день вместе с ними погибли ещё 312 человек, 7 из которых — священнослужители, и захоронены в общей безвестной могиле.
18 декабря 1958 г. диакон Сергий Никольский был реабилитирован Президиумом Московского областного суда.
11 апреля 2006 г. постановлением Священного Синода протоиерей Александр Русинов причислен к лику святых Новомучеников Российских для общецерковного почитания. Память его празднуется 31 января.
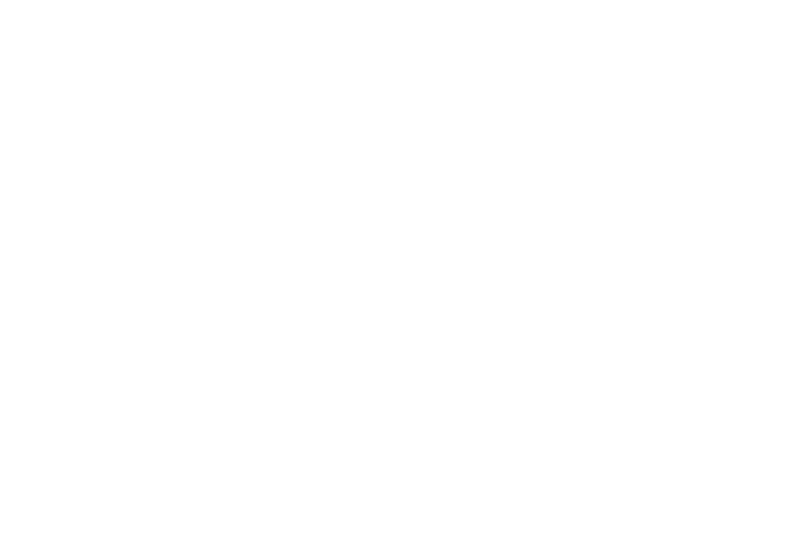
В 1932 г. в Космо-Дамианском храме служил священномученик Павел Успенский (1888-1938). Последнее место служения – храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рудня Куровского района (ныне Орехово-Зуевский район). Отец Павел был арестован 19 марта 1938 г. Михневским районным отделением НКВД и заключен в Каширскую тюрьму. Расстрелян 4 июля 1938 г. на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.
По определению Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ 2000 г. священник Павел Успенский включен в Собор Новомучеников и Исповедников Российских ХХ века для общецерковного почитания в лике Святых. Память его празднуется 4 июля.
По определению Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ 2000 г. священник Павел Успенский включен в Собор Новомучеников и Исповедников Российских ХХ века для общецерковного почитания в лике Святых. Память его празднуется 4 июля.
В январе 1938 г. в храм Космы и Дамиана в Болшево перешёл служить протодиакон Николай Тохтуев. Служение в церкви начал в 1919 г. по окончании училища псаломщиков при Архиерейском доме в Перми. В 1922 г. был рукоположён во диакона в Свято-Троицкой церкви с. Ашапа Пермской губернии. У диакона Николая был красивый и мощный бас, какого не было ни у одного из диаконов Кунгура и Перми, и 26 января 1925 г. епископ Кунгурский Аркадий (Ершов) (священномученик — память празднуется 3 ноября) позвал его служить в Кунгурский Успенский кафедральный собор. Владыка полюбил диакона Николая за его простоту, добродушие и нестяжательность. В 1925 г. отец Николай был награждён двойным орарем и возведён в сан протодиакона.
Все двадцатые и последующие годы сотрудники ОГПУ вели наблюдение за церковнослужителями. В 1932 г. протодиакон Николай подвергся аресту, был приговорен к трем годам ссылки на Урал. Находясь в кунгурской тюрьме, он заболел тифом и после приговора был освобожден, чтобы следовать на место ссылки вольным порядком. Выздоровев, протодиакон Николай по совету близких людей решил в ссылку не ехать и отправился в Москву, где впоследствии служил в разных храмах Московской области. Гонимый властями и ведомый Богом, в 1938 г. отец Николай Тохтуев начал свое короткое и последнее служение в храме святых мучеников Космы и Дамиана.
Все двадцатые и последующие годы сотрудники ОГПУ вели наблюдение за церковнослужителями. В 1932 г. протодиакон Николай подвергся аресту, был приговорен к трем годам ссылки на Урал. Находясь в кунгурской тюрьме, он заболел тифом и после приговора был освобожден, чтобы следовать на место ссылки вольным порядком. Выздоровев, протодиакон Николай по совету близких людей решил в ссылку не ехать и отправился в Москву, где впоследствии служил в разных храмах Московской области. Гонимый властями и ведомый Богом, в 1938 г. отец Николай Тохтуев начал свое короткое и последнее служение в храме святых мучеников Космы и Дамиана.
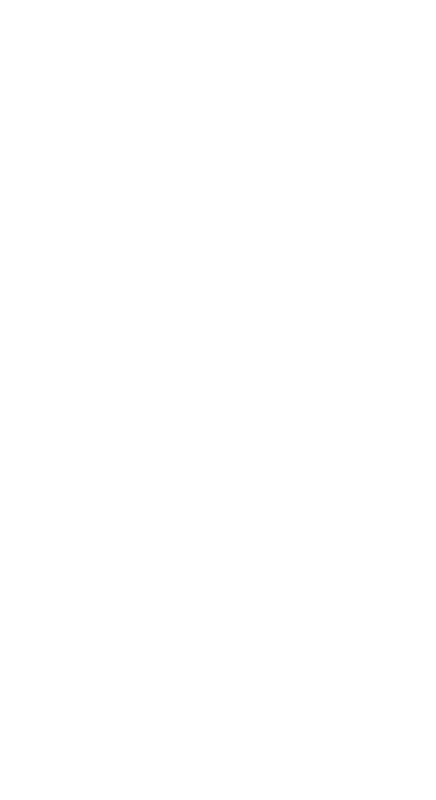
Поселившись в Болшево с семьей (у отца Николая было семь детей), стал брать уроки вокала у руководителя ансамбля песни и пляски А.В. Александрова. Его пригласили в ансамбль певцом, предлагали перейти в Большой театр, но протодиакон Николай остался служить в храме Божием.
В самый скорбный день Страстной седмицы — в Великую пятницу 1940 года протодиакон Николай был вызван в районное отделение НКВД в городе Мытищи. Пригрозив, что загонит его на восемь лет в лагерь, следователь предложил протодиакону дать подписку о сотрудничестве с органами НКВД для выявления так называемых антисоветски настроенных лиц. Протодиакон согласился, и следователь предложил ему снова явиться в НКВД на следующий день после Пасхи. Можно только представить себе, какова могла бы быть Пасха для отца Николая с уже подписанной им «квитанцией» на выдачу тридцати сребреников от гонителей Христовых после торжественного и радостного благовестия о Христовом Воскресении…
В самый скорбный день Страстной седмицы — в Великую пятницу 1940 года протодиакон Николай был вызван в районное отделение НКВД в городе Мытищи. Пригрозив, что загонит его на восемь лет в лагерь, следователь предложил протодиакону дать подписку о сотрудничестве с органами НКВД для выявления так называемых антисоветски настроенных лиц. Протодиакон согласился, и следователь предложил ему снова явиться в НКВД на следующий день после Пасхи. Можно только представить себе, какова могла бы быть Пасха для отца Николая с уже подписанной им «квитанцией» на выдачу тридцати сребреников от гонителей Христовых после торжественного и радостного благовестия о Христовом Воскресении…
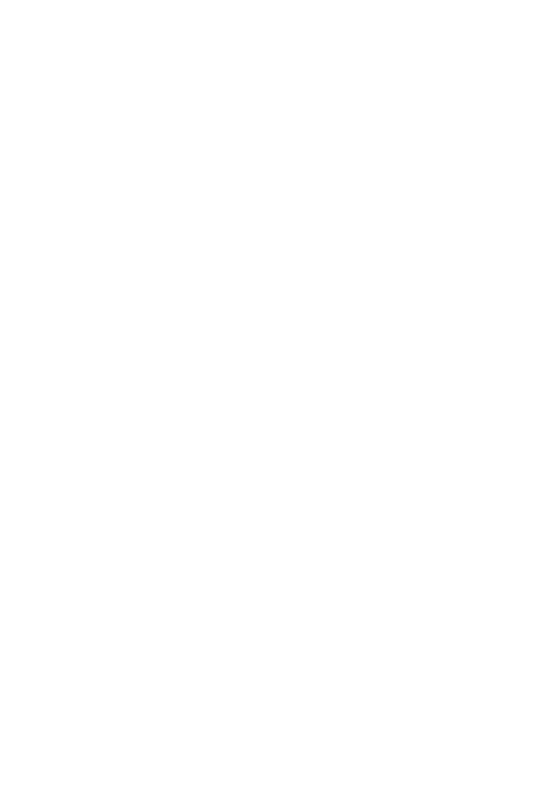
После Пасхи он собрал вещи, которые могли понадобиться ему в тюрьме, и написал заявление начальнику районного НКВД.
«Товарищ начальник, — писал он, — я отказываюсь от своей подписки и давал ее лишь потому, чтобы мне была возможность встретить Пасху и проститься с семьей. По моим религиозным убеждениям и по сану я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага…» Начальник, прочитав заявление, предложил подумать и не отказываться и отпустил отца Николая домой. Но тот остался тверд в своем решении, приготовившись пострадать за Христа. В своем пространном заявлении отец Николай писал: «…Вы нас считаете врагами, потому что мы веруем в Бога, а мы считаем вас врагами за то, что вы не верите в Бога. Но если рассмотреть глубже и по-христиански, то вы нам не враги, а спасители наши, вы загоняете нас в Царство Небесное… ведь Бог же дал нам такую власть, чтобы она очищала нас… и поэтому нужно вас только благодарить».
4 июля 1940 г. была выписана справка на арест протодиакона Николая, по которой он обвинялся в том, что «являясь враждебно настроенным к существующему в СССР политическому строю, был тесно связан с отдельными участниками группы… существовавшей в Мытищинском районе…»
«Товарищ начальник, — писал он, — я отказываюсь от своей подписки и давал ее лишь потому, чтобы мне была возможность встретить Пасху и проститься с семьей. По моим религиозным убеждениям и по сану я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага…» Начальник, прочитав заявление, предложил подумать и не отказываться и отпустил отца Николая домой. Но тот остался тверд в своем решении, приготовившись пострадать за Христа. В своем пространном заявлении отец Николай писал: «…Вы нас считаете врагами, потому что мы веруем в Бога, а мы считаем вас врагами за то, что вы не верите в Бога. Но если рассмотреть глубже и по-христиански, то вы нам не враги, а спасители наши, вы загоняете нас в Царство Небесное… ведь Бог же дал нам такую власть, чтобы она очищала нас… и поэтому нужно вас только благодарить».
4 июля 1940 г. была выписана справка на арест протодиакона Николая, по которой он обвинялся в том, что «являясь враждебно настроенным к существующему в СССР политическому строю, был тесно связан с отдельными участниками группы… существовавшей в Мытищинском районе…»
В ночь с 5 на 6 июля отец Николай был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке. 2 сентября 1940 г. особое совещание при НКВД приговорило протодиакона Николая Тохтуева к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в Севжелдорлаг в Коми. Последнее письмо прислал родным из поселка Кожва в начале 1943 г. Скончался в заключении 17 мая 1943 г. и был погребен в безвестной могиле.
После ареста мужа матушка Мария Евгеньевна с детьми продолжала жить там же, в Болшеве, в деревянном церковном домике-сторожке, в 50-100 метрах от Космо-Дамианского храма и по дороге к храму Преображения Господня. Мария Евгеньевна работала кочегаром в храме, пекла просфоры, выполняла различные поручения старосты, ездила по различным поручениям в Синод. В сторожке она располагала ночевать родственников тех, кого крестили, а в кухне устраивали спевки певчие. Во время войны в одной из комнаток проживал один священник, служивший в Болшеве, отец Рафаил. Мальчики, сыновья протодиакона Николая, помогали в алтаре. Маленькую Веру брали петь в церковный хор.
Дети протодиакона Николая Тохтуева и Марии Евгеньевны выросли людьми верующими, церковными. Матушка Мария Евгеньевна умерла в июле 1996 г. К 1999 г. осталось в живых трое детей протодиакона отца Николая: Евгений, Авенир и Вера. Евгений Николаевич и Вера Николаевна живут недалеко от Болшево и являются постоянными прихожанами Косьмодамианского храма.
После ареста мужа матушка Мария Евгеньевна с детьми продолжала жить там же, в Болшеве, в деревянном церковном домике-сторожке, в 50-100 метрах от Космо-Дамианского храма и по дороге к храму Преображения Господня. Мария Евгеньевна работала кочегаром в храме, пекла просфоры, выполняла различные поручения старосты, ездила по различным поручениям в Синод. В сторожке она располагала ночевать родственников тех, кого крестили, а в кухне устраивали спевки певчие. Во время войны в одной из комнаток проживал один священник, служивший в Болшеве, отец Рафаил. Мальчики, сыновья протодиакона Николая, помогали в алтаре. Маленькую Веру брали петь в церковный хор.
Дети протодиакона Николая Тохтуева и Марии Евгеньевны выросли людьми верующими, церковными. Матушка Мария Евгеньевна умерла в июле 1996 г. К 1999 г. осталось в живых трое детей протодиакона отца Николая: Евгений, Авенир и Вера. Евгений Николаевич и Вера Николаевна живут недалеко от Болшево и являются постоянными прихожанами Косьмодамианского храма.
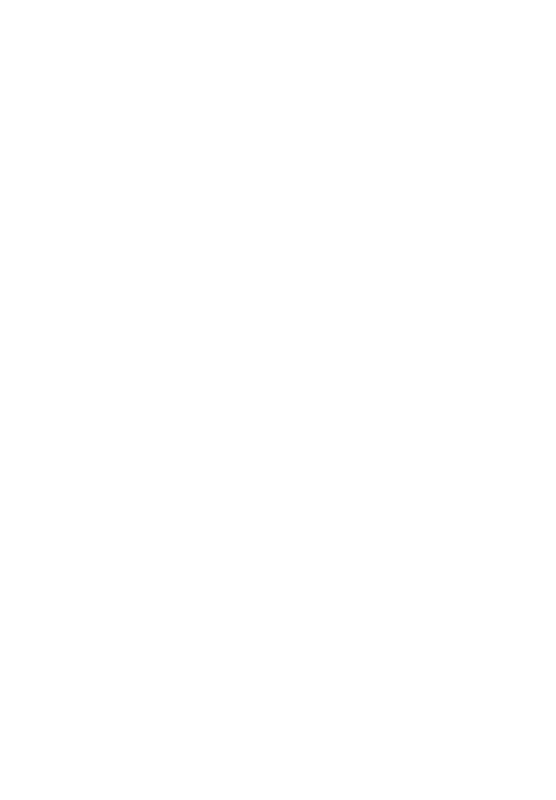
16 августа 1957 г. протодиакон Николай Тохтуев реабилитирован Московским областным судом. 6 октября 2005 года постановлением Священного Синода причислен к лику Святых Новомучеников Российских для общецерковного почитания.
В 2006 году в Свято-Тихоновском богословском университете написали икону Николая Тохтуева: на золотом фоне в полный рост стоит Святой, а позади него вдалеке видна болшевская церковь. Инициатором написания этого образа стал священник болшевского храма Георгий Рзянин.
Память священномученика и исповедника Николая Тохтуева празднуется 17 мая.
В 2006 году в Свято-Тихоновском богословском университете написали икону Николая Тохтуева: на золотом фоне в полный рост стоит Святой, а позади него вдалеке видна болшевская церковь. Инициатором написания этого образа стал священник болшевского храма Георгий Рзянин.
Память священномученика и исповедника Николая Тохтуева празднуется 17 мая.
Имена многих священнослужителей, окормлявших паству села Болшево и его окрестностей, внесены в славную летопись древнего Космо-Дамианского храма. Только во второй половине ХХ в. в его стенах служили:
- протоиерей Александр Сахаров
- протоиерей Василий Сергеев
- протоиерей Евгений Богданов
- протоиерей Василий Брылев
- протодиакон Владимир Сиротинский
- протоиерей Георгий Строев
- священник Михаил Сабуров
- священник Анатолий Казновецкий
- священник Пётр Ткачук
- священник Алексий Годунов
- священник Евгений Корягин
- иеродиакон Лука (Алексей Донских)
- диакон Александр Столяров
- диакон Василий Проскура
- диакон Сергий Куимов
- диакон Сергий Боскин
- диакон Валерий Приходченко
- диакон Николай Середний
- диакон Олег Кубраков
- диакон Вячеслав Попов
- диакон Дионисий Соколов
- диакон Александр Калинин
Старостами при Космо-Дамианском храме за эти годы подвизались:
- Анна Михайловна Гундаева
- Александра Ивановна Гусева
- Евдокия Ивановна Головина
- Антонина Павловна Беззубик
- Наталья Павловна Васильева.
В настоящее время болшевский Космо-Дамианский храм посвящён святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану, в Риме пострадавшим, что видно из мраморной мемориальной доски, устроенной на его фасаде. Когда и как произошло его переименование из храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских, неизвестно. Примечательно, что чтимая святыня в Космо-Дамианском храме — храмовая икона святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, изображает Асийских братьев, а частицы святых мощей в ней принадлежат Римским бессребреникам, хотя в храме есть и икона, посвящённая бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану, в Риме пострадавшим.
В Космо-Дамианском храме есть и другие чтимые святыни — икона преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары с частицами их мощей.
В Космо-Дамианском храме есть и другие чтимые святыни — икона преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары с частицами их мощей.
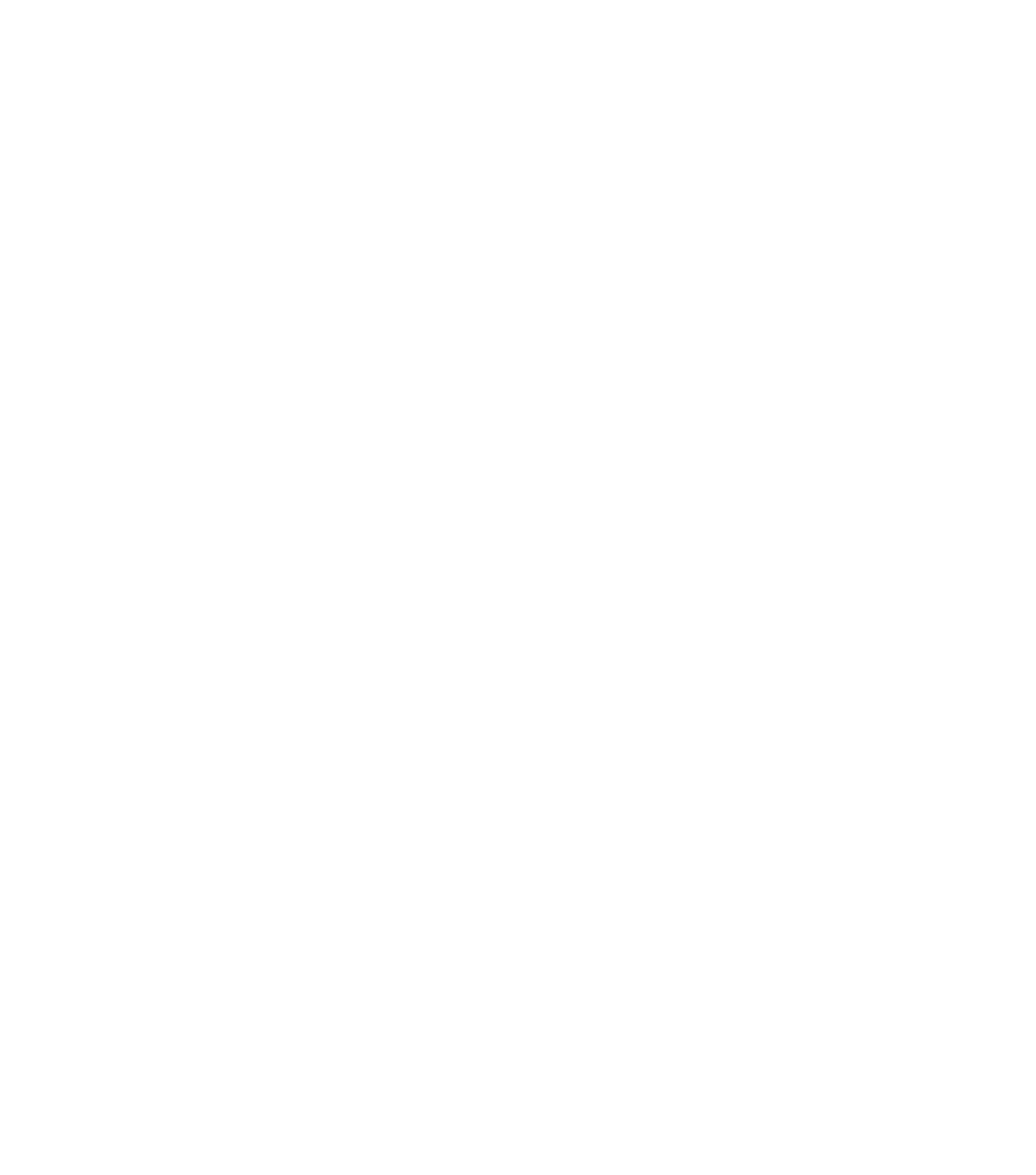
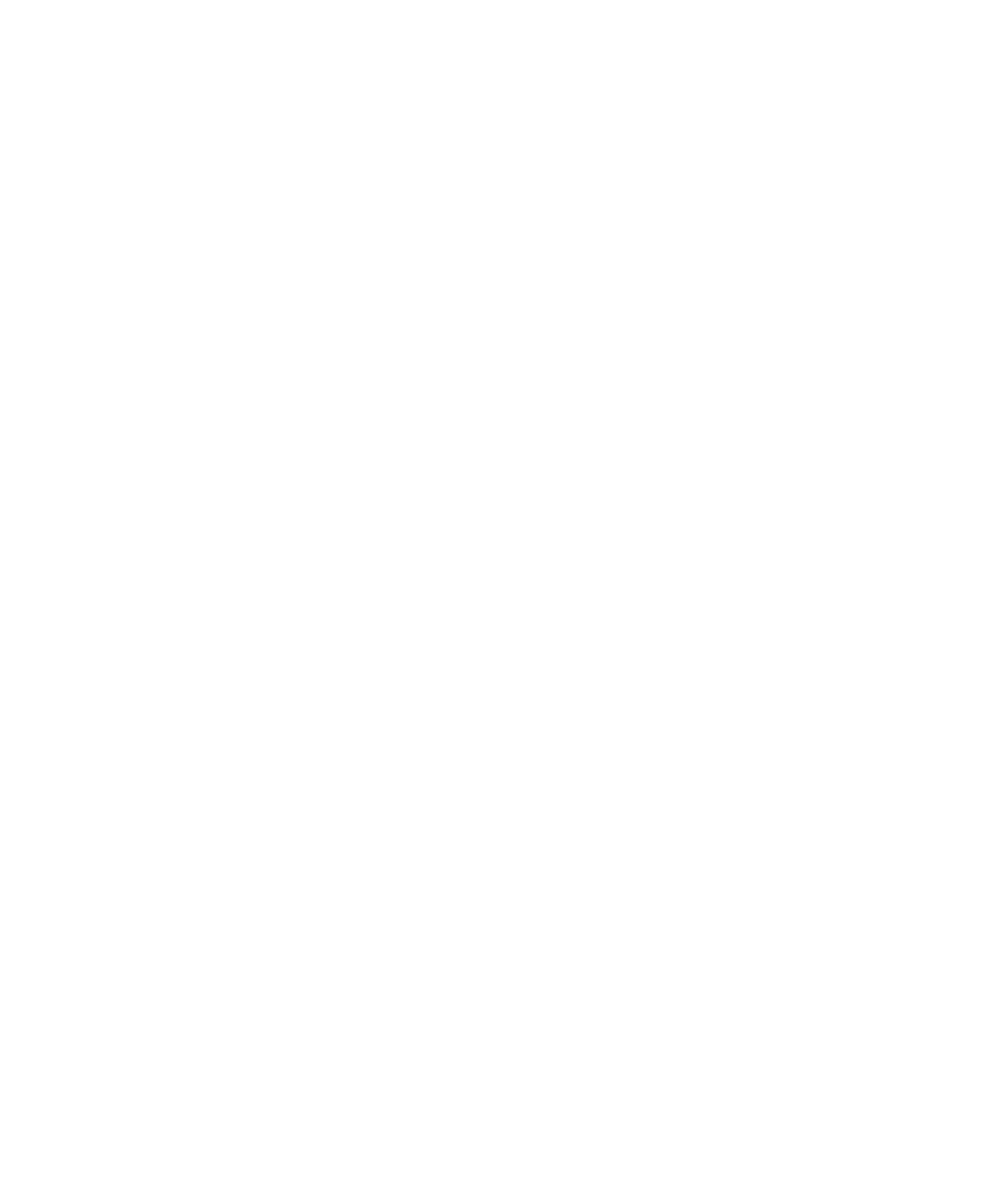
Благодаря попечению настоятеля протоиерея Александра Славинского сейчас в болшевской Космо-Дамианской церкви постоянно ведется большая духовно-просветительская работа. При храме работают воскресная школа, королевское отделение православной гимназии «Ковчег», постоянно организуются паломнические поездки по святым местам нашего Отечества.
